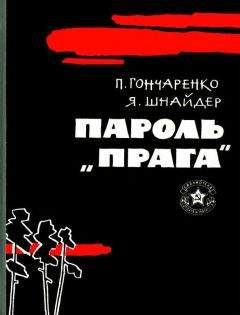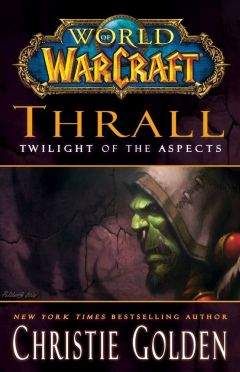— Пани Хильда — мой немецкий переводчик, — представил ее Грейс, — хочет угостить вас.
Чехи узнали недавнюю хозяйку добржишского дворца.
Михаил бредил. Какое-то огромное колесо вращалось неумолимо быстро, и он сидел на нем, стиснув зубы, хватаясь руками за спицы, чтобы не упасть в темноту. Потом колесо превратилось в раскаленный диск, который почему-то превратился в автомобиль, мчащийся по необкатанному шоссе. Михаил, словно всадник на лихом коне, приседал, чтобы сохранить равновесие и не вылететь из кузова. Когда он приседал, что-то невидимое вгрызалось в ногу и жгучая боль пронизывала все тело. Только к утру стало легче, и Баранов заснул так, будто провалился в немую бездну.
Проснулся Михаил уже днем. Когда тяжелые веки раскрылись, он долго не мог понять, где он, как сюда попал.
Невысокий белый потолок и тишина вокруг чем-то напоминали родную хату в селе на Житомирщине. Ему даже казалось, что сквозь тишину слышно, как бухает молот. Это работает сельский коваль дядько Петро. Все село на жатве, и по безлюдным улицам разносится: бух, бух. А потом Михаилу показалось, что он слышит чьи-то шаги в комнате. Неторопливая легкая походка… как у матери. Так ходила она, когда хозяйничала утром у печки. Мальчиком он любил, лежа под одеялом, наблюдать за ее подвижной фигурой. Вот мать наклонилась над ним — и что-то прохладное охватило лоб, виски, глаза.
«Мамо», — хочет сказать Михаил, но губы не слушаются.
Михаил напрягся и через силу повернул голову. Прохладная маска сползла с глаз, и он увидел над собой серые, тепло улыбающиеся глаза.
— Нет, нет, так нельзя, — прошептала врач и снова положила на голову холодный компресс.
Лишь теперь Михаил понял, что его ранили и он в госпитале.
— Пить, — попросил он.
Таня поднесла к его пересохшим губам стакан воды.
— Больше нельзя. Нужно потерпеть.
Михаил промолчал, а когда Таня меняла компресс, взял ее за руку.
— Что со мной? — спросил он сурово.
— Ранение легкое, в ногу; пулю вытащили, контузия тоже не тяжелая.
Таня вышла из комнаты и возвратилась с блюдцем, на котором лежала пистолетная пуля.
— Вот, — показала Михаилу.
Он взял металлический обрубок цепкими пальцами, осмотрел и снова бросил на блюдце.
Таня опять вышла и возвратилась не скоро. В госпитале было много раненых, в последнее время она почти не спала, по времени все равно не хватало.
Утром к госпиталю подъехал штабной «мерседес». Манченко вызвал Таню в коридор.
— Как дела у нашего «дипломата»? — спросил он сразу.
— Скоро выздоровеет, — в тон ему ответила Таня. — Сейчас для него главное — спокойствие.
— Хорошо, хорошо, не пойду. Передай, что у нас все в порядке, пусть поскорее в себя приходит.
— Ему передам, что все в порядке, а я сама все-таки хочу знать, как дела.
Манченко посмотрел в добрые, пытливые глаза Тани и только теперь заметил, как изменилась она: стала настоящим военным человеком. «Такой девушке надо говорить только правду», — подумал он, взял Таню за локоть и отвел в сторону.
— Вчера и сегодня была связь с фронтом. В Прагу вот-вот вступит танковая армия генерала Рыбалко. В направлении Пршибрама наступает армия генерала Свиридова. Наша разведка уже пошла на связь с фронтом. — Помолчал и, тяжело вздохнув, продолжал: — Через округ идут прорываться к англо-американцам немецкие недобитки. Все наши в полной боевой готовности. Штаб на позициях. Предусматривается небезопасная встреча с танковой дивизией фельдмаршала Шернера, который бредит реваншем. Вот-вот должен быть приказ о капитуляции Германии. — Манченко взглянул на часы: — Время вышло. Меня уже ожидает Володарев. Ну, бывай, Таня, — попрощался он и уехал.
Таню позвал Баранов.
— Я слышал шум штабного «мерседеса», кто-нибудь приезжал? — спросил он, как только Таня вошла в палату.
— Был Манченко.
— Что-нибудь есть из штаба?
— Да, есть приказ, чтобы больной Баранов выполнял все, что требуют от него в госпитале. Просили передать также, что дела в соединении хорошие.
— А выговора мне еще за «дипломатию» не вкатили?
Таня покачала головой, а Баранов добавил:
— Сел не в свои сани — и вот госпиталь, а в нем — больной Баранов, — Михаил умышленно сделал ударение на последних словах.
— Ты коришь себя за свою поездку к власовцам, а штаб совсем другого мнения и твоей дипломатии придает большое значение.
— В этом «большом значении», Таня, одно ценное — то, что я вижу тебя совсем близко и даже могу сказать: какая ты хорошая!
Баранов взял руку Тани в свою и прижал ее сначала к губам, потом к виску.
Таня встрепенулась от волнения. С того момента, как в госпитале появился Баранов, многие свои поступки Таня оценивала как бы с двух точек зрения. Ее врачебное «я» негодовало, когда она приказала положить Михаила в отдельную комнату, когда она задерживалась около него дольше, чем это было нужно… Но Таня чувствовала, что, несмотря на всю справедливость этого негодования, она будет поступать по-прежнему и дальше.
Таня открыла окно. В комнату, освещенную бледным молодым месяцем, доносились далекие взрывы. Била артиллерия.
Михаил поднял голову и, прислушавшись, радостно спросил:
— Слышишь, Таня?
Она нежно, по-матерински положила его голову на подушку и снова подошла к окну. Казалось, что весь неспокойный, обстрелянный Пршибрам затих в вечерних сумерках, готовясь встретить победу. На темных холмах плотными рядами выстроились шахтерские домики, и, казалось, они тоже замерли в радостном ожидании. Они ждут победу, которая уже стучится в тяжелые ворота старинного города.
Вдруг где-то совсем близко раздались выстрелы. Татьяна набросила на плечи шинель и вышла в коридор.
— Товарищ врач! — обратился к ней взволнованно один из раненых чехов. — С третьего этажа того дома, — он указал на каменный дом на противоположной стороне улицы, — кто-то в белом спустился на землю по веревке.
Татьяна сошла вниз и, перейдя через дорогу, направилась прямо к Виктору. Но того не было на месте. Послышался крик, к каменному дому сбежались бойцы, а из-за угла Володарев и Виктор уже вели связанного Шаповалова. За ними шел Олешинский. Заспанные глаза Виктора по-детски виновато смотрели на капитана.
— Так и победу прозеваешь, — заметил Олешинский сурово. Потом подошел и заботливо поправил на нем ремень.
* * *
Приближение победы уже чувствовали и в Малой Буковой. Все сыновья пекарки партизанят, никто из села не ездит на работу в Пршибрам. Пережитое горе и опасность еще больше сблизили тут людей, они советуются, кто будет работать в поле, кому быть с оружием.
Старый Ружечка обиделся, когда Тышляр попросил его обмерить несколько делянок поля.
— Да, да, — плакался сельский староста Ружечка перед пекаркой, — старику дали отставку. И не так было бы обидно, если бы распорядился молодой Эмиль, а то, где ж там, командует седой Тышляр!
— Он хороший хозяин, ему виднее, кто лучше понимает в хлебе, — успокаивала Ружена старика.
В комнату вбежал радостный Индра.
— Мама, капитан приехал!
На пороге устало улыбался Олешинский.
— Можно, мама? — спросил он и добавил знакомые Ружене слова: — Я не один, со мной друзья.
Пекарка еще больше разволновалась. Капитан крепко обнял ее.
— Родные мои, — промолвила сквозь слезы Ружена, — не забыли свою мать, а я столько думала о вас!
В комнату все входили и входили партизаны. Олешинский знакомил их с последними данными разведки, с планом ликвидации отступающих войск фельдмаршала Шернера. Нужно было немедленно заминировать дорогу около села и мост вблизи леса.
Река поднялась, и перейти ее можно только через мост. Если гитлеровцы прорвутся через партизанский огонь, то смерть будет ожидать их и на реке.
Партизаны отправились на задание.
Олешинский с Эмилем вышли во двор и остановились возле «мерседеса».
По улице бежала, размахивая руками, девушка. Цветастое платье и пушистые пряди светлых волос развевал майский ветерок. Это была Квета. Капитан узнал ее сразу.
— Прага освобождена! Фашисты подписали капитуляцию! — взволнованно кричала Квета. Щеки ее горели, а глаза блестели, будто бусины. — Советские войска сегодня утром вошли в Прагу!
Долгожданная, выстраданная победа! Именно здесь, в Малой Буковой, суждено было капитану узнать о ней И в том, что эту весть принесла сияющая Квета, Олешинский чувствовал что-то символическое. Он горячо пожал Квете руки, а она, взглянув на машину, удивленно подняла брови.
— Женя, вы снова торопитесь… Почему? Победа же!
Олешинский смотрел в ее ясные очи и думал: как объяснить тебе, моя любимая, что война закончится лишь тогда, когда последний фашист бросит оружие. И кто знает, что несут Малой Буковой недобитые фашисты?